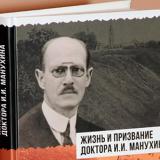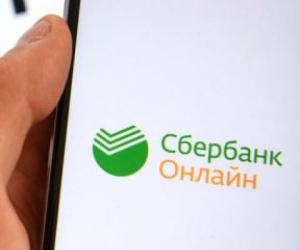«Острова утопии: Педагогическое и социальное проектирование послевоенной школы (1940-1980-е)». – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 720 с., ил. – 1000 экз.
Это не то исследование в беспристрастности которого нет оснований усомниться, но такое, которое и при всех слишком чётко выраженных симпатиях и антипатиях остаётся полезным. После четырёх лет страшной войны, разрушения сотен населённых пунктов, травмирования миллионов семей, смерти большей части довоенных учительских кадров – что могла представлять собой советская школа? Понятно, что она была в ужасающем кризисе, который, тем не менее, был преодолён. Какими путями происходило преодоление, какие книги, фильмы, методики, постановления ему способствовали – а какие, возможно, тормозили – об этом рассказывает коллективная монография, вышедшая в издательстве НЛО. В книге рассмотрены некоторые грани образовательной политики не только советской, но и югославской, шведской, германской. В заключение приводится хронология значимых этапов развития образования в СССР.
Елена Березович «Русская лексика на общеславянском фоне: семантико-мотивационная реконструкция». – М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2014. – 488 с. – 1000 экз.
Написанная главным редактором журнала «Вопросы ономастики» сложная для неспециалиста, но захватывающая книга о словах – их значениях, связях, производных и ореолах. К примеру, в русском языке есть унаследованное из греческого слово «ад» - но также и «пекло», и «преисподняя». Эти три слова характеризуют по-разному одно и то же условное место, а в других языках для него есть и другие слова, с иными коннотациями. Слово «суконный» применительно к речи когда-то значило «косноязычный», ассоциируясь лишь с шероховатой тканью, но позднее было переосмыслено в духе бюрократии. И уж самое разнообразнейшее ветвление значений имеют слова «Русь», «русский» и их производные. Наши предки называли русским то, что было ими освоено – соответственно, неосвоенное было нерусским (притом что могло быть именно русским для других народов). В наши дни на размывание значений слов всё больше влияет интернет – и эти процессы тоже нашли отражение в представленной книге.
«Мих. Зощенко: pro et contra, антология». – СПб.: РХГА, 2015. – 1088 с. – 400 экз.
О Маяковском он писал: «Мы не верим ему, ибо он – поэт Безвременья». О Тэффи: «Во всех её книгах люди не похожи на людей». Горькому: «Вы, пожалуй, единственный человек, которого я по-настоящему люблю». О себе: «Фраза у меня короткая. Доступная бедным». Что мы сегодня знаем о Михаиле Зощенко, кроме того, что в 1946 году он и Анна Ахматова попали под каток партийной критики? Критики жестокой и несправедливой: Зощенко отнюдь не был антисоветчиком. Кем он был – пожалуй, только и можно понять из книги, где вместе публикуются литературно-критические и документальные материалы, письма разным адресатам (это очень разные письма!), автобиографические признания, беседы, программные статьи. Не самый сложный писатель, Зощенко многолик, и нет исследователя, который бы относился к его творчеству с равномерным пиететом. Сам он никогда не считал себя писателем только лишь «смешным». Но и сегодня в центре внимания чаще оказывается особенный зощенковский язык и знаменитый зощенковский юмор.
Игорь Дмитриев «Упрямый Галилей». – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 848 с., ил. – 1000 экз.
История процесса над Галилео Галилеем, написанная с обширным привлечением малоизвестных документов, с анализом мотивов действующих лиц. Чего в действительности добивался от учёного инквизиционный трибунал, генеральный комиссар которого даже не особенно скрывал, что считает рассуждения Коперника-Галилея вполне допустимыми и обоснованными? В традиции искусства вошло изображение Галилея – гонимого инквизицией мученика, но в действительности за всё время процесса он дня не провёл в тюрьме: обвинители хорошо понимали его положение, значение и состояние здоровья; ему благоволил сам папа Урбан VIII. Тем не менее, он был осуждён и «умер непрощённым». Суд над Галилеем произвёл тяжёлое впечатление на учёных-современников – в частности, на Декарта – очертив для них некий круг допустимого. В чём же заключалось допустимое? О чём можно и о чём не дозволено было рассуждать в XVII веке?
Джон Кин «Демократия и декаданс медиа». – М.: Издательство Высшей школы экономики, 2015. – 312 с. – 1000 экз.
Однажды общественное мнение уже готовилось поверить, что мир на пороге глобализации и границы национальных государств вот-вот утратят значение. Это было после изобретения телеграфа. «Целые состояния создавались и терялись в считанные часы из-за применения корпорациями поминутных докладов о состоянии фондовых рынков… Телеграф сделал возможной глобальную систему кредитования и финансовой взаимозависимости государств». Сегодня от интернета ожидают новых великих свершений, ведь он позволяет жить и транслировать жизнь в прямом эфире практически непрерывно. Но, предостерегает профессор Вестминстерского университета Джон Кин, пока что беспрецедентное развитие коммуникаций обернулось не только большей демократизацией власти (злоупотребления теперь утаить труднее), но и чрезвычайным перенасыщением эфира информацией, которая может быть походя утрачена, может быть с лёгкостью украдена – и, самое главное, во множестве случаев неотличима от «брехни». Да, это уже технический термин.
Борис Рыбаков «Ремесло Древней Руси». – М.: Академический проект; Культура, 2015. – 715 с., ил. – 2000 экз.
Долгожданное переиздание фундаментального труда Бориса Александровича Рыбакова (впоследствии ставшего академиком, а на момент защиты – в 1942 году! – это была его докторская диссертация). Книга получила Сталинскую премию и на долгие годы стала первым источником научных знаний о ремёслах и технологическом опыте Древней Руси. Это глубокое и последовательное изучение тысячелетнего периода развития русских ремёсел, от раннеславянского (IV век н.э.) до эпохи развитой городской культуры (XV век), с учётом внешних влияний и исторических перемен. Организация работы мастерских и торговые связи, наиболее выдающиеся мастера и ремесленные объединения, даже возникшие под влиянием распространения тех или иных ремёсел метафоры и литературно-фольклорные образы – всё это описано в книге Рыбакова с неизменным интересом к предмету изучения и с уважением к читателю, которого надлежит убедить, для чего учёный находит множество ярких примеров. Книга насыщена как статистическим материалом, так и иллюстрациями.
«Великие лекарства: в борьбе за жизнь»/ Под. ред. В.Дорофеева. – М.: Альпина нон-фикшн, 2015. – 226 с. – 3000 экз.
В XIX веке туберкулёз убил больше людей, чем все европейские войны. В XVII веке французская полиция, разыскивая преступника, отмечала отсутствие следов оспы на лице как особую примету. Каких-нибудь полтораста лет назад стала входить в практику антисептика. Фармакология, которая многие тысячелетия следовала замедленному ритму, когда даже систематические успешные излечения не становились залогом массового распространения врачебного открытия, за последнее столетие сделала поистине колоссальный прорыв. Во многом он был обеспечен участием и деньгами Российской империи и СССР. Заявлено о победе над оспой, чумой и холерой, перестал быть смертным приговором сахарный диабет, введён в контролируемые границы туберкулёз. Но история фармакологии, которая в представленной книге отчасти систематизирована и изложена в увлекательном, популярном (но не совсем уж примитивном) виде, пожалуй, только начинается. Человека подстерегают новые болезни – те, до которых он прежде не доживал.
«Иллюстрированный Бюффон, или Натуральная история четвероногих, птиц, рыб и некоторых гадов». – М.: Лабиринт Пресс, 2014. – 175 с., ил. – 4000 экз.
Свою «Естественную историю» учёный француз Жорж-Луи Леклерк граф де Бюффон писал не для детей, и его опыт систематизации живых организмов для XVIII века был вполне передовым. Однако уже в XIX веке Бюффона стали адаптировать специально для юношества – сам его текст, его взгляд любознательного прагматика давали для этого основания. Стиль Бюффона вызывает восхищение своей лапидарной простотой и живой безыскусностью; в отсутствии наукообразности – его сила: он так немудряще излагает вещи конкретные и вполне низменные, что слог его поднимается прямо-таки до притчевых высот абстрагирования. Бюффона хочется разобрать на цитаты и сделать из них эпиграфы уже к текстам не о животном царстве – но, пожалуй, что о человеческом. Ибо «если не брать в расчёт род человеческий, слоны – самые замечательные существа на земле... В сопоставлении с гигантским туловищем, у слона очень маленькие глазки, однако они исполнены света и духовной силы».
Распечатать