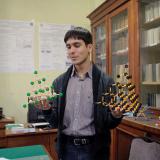О грузиках и искусстве
— Я интересуюсь механикой материалов, причем с теоретической точки зрения. Есть экспериментаторы, я предпочитаю с ними сотрудничать, но сам занимаюсь именно разработкой математических моделей. Наши учителя в свое время говорили: «Каждую модель вы должны свести к грузику на пружинке или математическому маятнику». И в этом состоит искусство: это не наука даже, это искусство моделиста или, можно сказать, модельера, которым владеют не все. Это товар, в общем-то, штучный. Наша цель — создать необходимую теоретическую базу. И тогда по нашим стопам пойдут техники, технологи, которые это смогут реализовать. И тогда мы скажем, что наши жизни прошли не зря, потому что может уже и жизнь пройти.
О том, как «щупают» графен
— Когда я только окончил институт, то поступил в аспирантуру и меня заинтересовала тема углеродных наноструктур. Тогда еще только-только начинали говорить о графене, ну, в среде механиков. В среде физиков уже три года об этом говорили, но мы всегда немножко от наших коллег отстаем. Кандидатскую я написал, основываясь на исследованиях, которые проводились в Великобритании и Штатах, но, знаете, это же неинтересно, ведь хочется материал «пощупать». Хотя графен довольно сложно пощупать в буквальном смысле. Я помню свое состояние, когда я увидел его в первый раз в по-настоящему мощный микроскоп. И что я увидел? Вовсе не то, что думал. Некое изображение на экране монитора. И мне сказали: «Ну, вот он, твой графен, которым ты так долго занимался». Но, тем не менее, пока я занимался графеном теоретически, я знал, что есть люди, которые, да, действительно его щупают.
Механики против физиков
— В Петергофе есть наноцентр, точнее, Междисциплинарный ресурсный центр по нанотехнологиям при СПбГУ. Так вот, там я общался с людьми, которые графен изучают очень плотно. Я спросил их: «Какие механические свойства вы можете измерить, что вы вообще об этом знаете?» и так далее. Ну, люди мне сказали, что им больше интересны электронные свойства, оптические свойства. Механическими свойствами они интересуются в меньшей степени. Наверное, это потому, что физики рвутся на передний край. Ну, это мое мнение, конечно, сугубо личное. Им интересны квантовые свойства, а мы чаще всего ими пренебрегаем. И у нас есть небольшой такой конфликт: им кажется, что механика это наука устаревшая, и про механические свойства мы уже все знаем и незачем дальше в этом деле копаться. А мы, механики, считаем, что на самом деле ничего неизвестно, и класс наноматериалов открыл совершенно новое направление в механике деформированных тел, которое не исследовано: там совсем другие модели должны использоваться, не те, которые используются в классической теории упругости, например.
О нанорезонаторах и нановилках
— Совместно с ИТМО у нас есть проект, мы интересуемся нанорезонаторами. Идея на самом деле очень простая. Представьте себе пленку, очень тонкую и очень узкую. Если у нас на эту пленку упадет сверху шарик, то она начнет как-то колебаться. Представим себе, что она у нас уже как-то колеблется, и мы знаем частоты этих колебаний. А если свалится шарик, то она станет колебаться чаще. Таким образом, зная, как изменилась частота данных колебаний, мы можем взвесить массу этого шарика. Если у нас эта пленка нанометровых размеров, а шарик у нас весит порядка цептограмм (это десять в минус двадцать первой степени), в общем, это вес, сопоставимый с весом атома. Нанопленка «почувствует» даже такую мизерную прибавку, а значит, мы сможем взвешивать отдельные атомы и молекулы. Это может использоваться для того, что сейчас делает масс-спектроскопия: чтобы исследовать химический состав веществ, для того чтобы распознавать наличие взрывчатых веществ, наркотических. Ну, кроме того может использоваться в медицине для исследования раковых и прочих заболеваний. Но прочитав определенное количество материала, мы поняли, что это работа сугубо экспериментальная, теории мало, пока люди не знают, как правильно это описывать и пользуются как раз моделями в стиле «грузик на пружинке». И для того, чтобы создать модели посложнее, мы идем к экспериментаторам. И вдруг нам экспериментаторы говорят: «Мы ничего про это не знаем, но у нас есть другой нанорезонатор, точнее, у нас есть идея. Как использовать наши структуры как нанорезонаторы». И они показывают нам фотографии углеродных усов, вискеров, так называемых. Они эти нановискеры могут выращивать и, более того, могут придавать им различные формы вроде нанокамертонов или «нановилок». Дальше они говорят: «Мы хотим, чтобы эта нановилка у нас колебалась с определенной частотой. Но нам нужно рассчитать частоты таких колебаний». В итоге мы пришли с одной задачей, а получили другую. И я считаю, это есть очень хороший образец сотрудничества.
О разнице между «работать» и «думать»
— Мне рассказывали про какого-то ученого, который обходил научно-исследовательский институт с проверкой. И ему показывают: вот здесь вот у нас сидят научные сотрудники, сидят и работают каждый день по восемь часов. А он спросил с таким явным раздражением: «Если вы все время работаете, когда же вы думаете?» Ну, сидеть перед компьютером или листочком в ожидании, когда придет мысль, это довольно бесполезный процесс. С другой стороны, если не сидеть, то и не придет. Везет тем, кто постоянно над мыслью работает. Как говорит моя жена: «Я заметила, что мне очень везет, если я работаю 24 часа 7 дней в неделю». Я считаю, что, да, так и есть. Если работа — это твое хобби, и наоборот, то тебе не обязательно устанавливать, для того чтобы думать, специальное время. А рабочий день при этом может длиться намного больше положенных восьми часов.
Валерия Михайлова