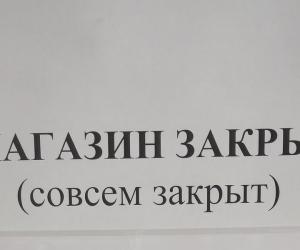В последнее время в российском жилищном секторе наблюдается тревожный и всё более системный феномен: сделки купли-продажи квартир, совершённые по всем правилам гражданского законодательства, расторгаются по инициативе продавцов — чаще всего пожилых людей, заявляющих, что их «развели». При этом покупатели, вложившие в жильё последние сбережения, остаются ни с чем, а квартиры возвращаются бывшим владельцам, которые мгновенно превращаются из «жертв мошенников» в юридически грамотных граждан, способных подавать иски, прятать активы и манипулировать судебной системой.
На первый взгляд — очередная «бабушкина драма». На деле — отлаженный механизм злоупотребления правом, в котором участвуют не только сами пожилые граждане, но и целые цепочки посредников: риэлторы, нотариусы сомнительной добросовестности, юристы, а возможно, и представители судебной власти.
Почему система даёт сбой?
Российское законодательство исходит из презумпции добросовестности всех участников гражданского оборота. Но когда эта презумпция начинает системно использоваться во вред самому институту частной собственности, возникает не правовая коллизия, а системный кризис доверия.
Суды сегодня охотно принимают заявления пожилых граждан о том, что «их обманули», особенно если в ход идут аргументы о возрасте, одиночестве, «внезапной уязвимости».
Однако почти никогда не проверяется обратная сторона: откуда у «жертвы» внезапно появляются грамотные юридические документы, готовые иски, знание процедур банкротства и судебных лазеек. И почему сразу после сделки у продавца исчезают все деньги — на фоне полного отсутствия активов, которые можно было бы арестовать в случае возврата средств покупателю.
Это не просто мошенничество. Это правовой вандализм, прикрываемый риторикой «защиты слабых».
В чьих интересах это происходит?
Интересно, что массовое распространение подобных схем совпадает с периодом искусственного охлаждения рынка вторичного жилья и одновременного разогрева рынка новостроек. Застройщики, работающие под эгидой государства или связанные с крупными девелоперскими холдингами, активно лоббируют меры по переводу спроса с «вторички» на «первичку».
Покупатели, испугавшись рисков утраты жилья после сделки, начинают избегать вторичного рынка. В то же время им навязывается идея, что «только новостройка — это безопасно». Но застройщики, в свою очередь, несут не меньшие — а иногда и более разрушительные — риски: банкротства, заморозки проектов, недостройки, завышенные цены на квартиры, не соответствующие их реальной стоимости.
Возникает парадокс: чтобы защититься от одного вида мошенничества, покупатель попадает в ловушку другого.
Что делать?
Проблема не в отдельных «бабушках», а в системе. Поэтому и решения должны быть системными.
Нотариальное удостоверение как золотой стандарт.
Предложение ввести обязательное нотариальное удостоверение сделок с жильём — абсолютно верный шаг. Нотариус, в отличие от обычного риэлтора или регистратора Росреестра, несёт персональную ответственность за сделку. Он обязан лично убедиться в дееспособности сторон, в отсутствии давления и в добровольности волеизъявления.
Более того, при наличии сомнений нотариус имеет право и обязан отказать в удостоверении. А если используется видеофиксация сделки — она становится неоспоримым доказательством в суде.
Психиатрическая экспертиза по инициативе нотариуса или суда.
Если после сделки продавец заявляет о своей невменяемости — он должен пройти повторную экспертизу. И если до сделки он был признан дееспособным, а после — «жертвой обмана», это должно автоматически вызывать подозрение в злоупотреблении.
Детектор лжи и обязательная проверка на предмет соучастия.
Если суд получает заявление о «мошенничестве», он обязан проверить не только самого заявителя, но и контекст: кто помогал подавать иск, кто финансировал юридическое сопровождение, с кем общался продавец до и после сделки.
Введение добровольной проверки на детекторе лжи — не нарушение прав, а разумный инструмент фильтрации заведомо ложных заявлений. Если «жертва» отказывается — это уже основание для уголовной проверки.
Презумпция добросовестности покупателя.
Если сделка зарегистрирована, деньги переведены, имущество передано — квартира должна оставаться за покупателем. Исключения возможны только при доказанном уголовном преступлении в отношении продавца, подтверждённом следствием, а не его собственными словами.
Уголовная ответственность за злоупотребление правом.
Необходимо ввести специальную норму за «искусственное оспаривание сделок с целью неисполнения обязательств». Сегодня это квалифицируется как мошенничество лишь в редких случаях. Но если схема повторяется тысячами — это требует отдельного правового регулирования.
Россия не может позволить превращение жилищного рынка в полигон для правового криминала. Когда каждый гражданин боится купить квартиру, потому что его могут выселить по заявлению «обманутой бабушки», рушится не только рынок — рушится сам институт частной собственности, один из столпов гражданского общества.
Государство обязано встать на сторону добросовестных граждан — будь то военный с «боевыми», молодая семья с ипотекой или пенсионер, купивший жильё на сбережения. И не поддаваться манипуляциям, прикрывающимся сочувствием, но ведущим к разрушению правовой системы.
Запрет на оспаривание нотариально удостоверенных сделок — не костыль, а необходимая мера укрепления доверия к закону. Если государство не защитит своих граждан сегодня, завтра их просто не останется на этом рынке. И тогда «первичка» окажется единственным, но иллюзорным убежищем в пустыне правового нигилизм